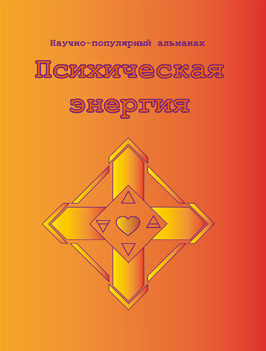Интервью редакции сайта "Живая Этика в мире" с Р.Б. Рыбаковым о передаче рериховского наследия в СССР было записано 21 апреля 2016 г. в Москве в его кабинете. Р.Б. Рыбаков − российский писатель, российский индолог, специалист по проблемам истории культуры, межкультурным взаимодействиям, директор Института Востоковедения РАН в 1994-2009 гг., доктор исторических наук. Ниже полная стенограмма данного видео-интервью.
* * *
[0:00]
А.Люфт, редактор сайта "Живая Этика в мире":
− Ростислав Борисович, Вы были у истоков передачи Наследия Рерихов от Святослава в Россию.
− Нет, я был до истоков. Потому что сам исток я застал только косвенно. Когда я был проездом в Бангалоре, и Житенёв и Шапошникова были там. Я кое-что видел, кое что наблюдал, потом я встречал это уже в Москве. Видел процесс отбора, всё это во многом мне очень не понравилось. Видел как всё это хранилось − это ещё больше не понравилось. А у истоков я был ещё до формирования этого Советского Фонда Рерихов, собственно, это была моя идея. С этой идеей я приехал летом 89-го года в Бангалор и устно изложил её Святославу. И Святослав терпеливо выслушал меня, разговор продолжался часа два. Присутствовала Девика и присутствовал человек, имени которого я не называю, потому что, если возникнут какие-то выпады со стороны недоброжелателей, я тогда представлю его. Этот человек жив-здоров. Это наш российский гражданин, который по долгу службы там находился, не связанный ни с какими бы то ни было спецслужбами, если возникнут какие-то вопросы, но представитель журналистского корпуса.
[1:52]
Когда я всё это изложил, − а со Святославом мы были знакомы тридцать лет до этого, знакомы с 60-го года, и переписка была и много раз встречались, − и тут он выслушав всё, он не внёс изменений в концепцию. Он задавал уточняющие вопросы. После всего этого он сказал: "Всё это очень хорошо, но нужно всё это изложить на бумаге".
Началась лёгкая паника, потому что не от руки же писать. Вспомнили, что в имении Татагуни, − нет, не в имении, в их офисе, у них был офис в городе, а это происходило в городе в гостинице Ашока, − что там есть машинка с русским шрифтом. Кто-то смотался из местных − бой, как выражалась Девика. Бой лет семидесяти смотался, притащил машинку, и я ушёл в свой номер, он у меня был через одну дверь от них. И там я "тюк-тюк", нашлёпал это положение, которое стало потом письмом "Медлить нельзя". Принёс Святославу, он посмотрел. В одном месте он сказал: "Вот здесь надо не так". Я взял ручку. И вдруг, как будто кто-то сверху подсказал: "Святослав Николаевич, Вашей рукой". И он внёс какое-то слово уточняющее, не меняющее мысль. Приползла Дэвика и спросила: "Ну, что , всё хорошо? Он хорошо справился?" На что Святослав сказал: "Он справился очень, очень хорошо".
[3:52]
"Я отдаю Вам это письмо, − сказал он, − делайте с ним всё, что хотите. Но у меня возникают некоторые вопросы. Вот Вы считаете, что центром этой организации должен быть музей. Кого Вы видите во главе этого музея?" И я должен сказать, что с грустью, поскольку чувствовал, так сказать, некоторые сложности, которые могут возникнуть. Я так и сказал Святославу Николаевичу: "Святослав Николаевич, к сожалению, у меня нет другой кандидатуры Вам предложить, кроме Людмилы Васильевны Шапошниковой, Вам знакомой!" Он сделал так − [прищурил левый глаз], − одним глазом посмотрел на меня и сказал: "М-да? Вы уверены? Ну что ж..."
И я, когда прилетел в Москву, позвонил Шапошниковой. А надо сказать, что эту идею концепции докладывал на какой-то рериховской комиссии в музее Востока незадолго перед отъездом, и натолкнулся на яростное, − при довольно пассивном отношении всех остальных, − на яростное сопротивление двух дам, которых сейчас представить в одной упряжке очень трудно − это Людмила Васильевна Шапошникова и Ольга Владимировна Румянцева. Вместе. По разным причинам, это нужно спрашивать, прежде всего, Ольгу Владимировну Румянцеву, если она вспомнит мотивы своей позиции тогда, они, вернее, она, Румянцева, шла иным путём, через Правительство. Были какие-то надежды на то, что дадут какое-то здание и ещё что-то.
[5:56]
Здание, которое мне активно не нравилось. Не говорю об архитектурном несоответствии. Оно не соответствует – это некая мавританская архитектура, здание, ну, вы знаете, это здание, это что-то наподобие магазина нот... Эта мавританская архитектура, на мой взгляд, противоречило всему, что связано с именем Рериха. А второе, там нужно было выселять безумное количество квартир. И третье, для меня главное было, что всё это находится как бы на склоне холма под Сандуновскими банями, то есть, если Сандуны прорывает вода, а такое вполне возможно, то, извините меня, разговор о рериховском наследии переходит в область сказочного. Для меня тогда это был серьёзный аргумент. Хотя по тем временам расселения тоже казалось серьёзным. Там, по-моему, была поликлиника. И ситуация была такая, что могли разрешить музей, а поликлинике новое место не дадут. Никаких надежд не было. Это же ещё очень Советский Союз, это же 89 год...
И вот я позвонил Шапошниковой по приезду. Не без торжества сказал, что Святослав Николаевич принял мою концепцию. От неё поздравлений не услышал и сказал:
− Вы знаете, кого он хотел бы видеть на посту директора музея?
− Кого? − спросила Шапошникова без особой благосклонности. Я сказал:
− Вас!
Людмила Васильевна никогда не была сдержанной на язык и тут она сказала:
− Да он что, совсем с ума сошёл?
Я сказал:
− Вот это Ваше дело, Ваше с ним. Моё дело донести до Вас его волю.
А.Люфт:
– Воля то, получается, была не совсем его.
Р.Б. Рыбаков:
– Воля не совсем его была, ну, а кому ещё?
А.Люфт:
– А почему не Румянцева?
Р.Б. Рыбаков:
– Ну, я очень люблю Ольгу Владимировну. Но… И она боец, но здесь должен быть не просто боец, а… ну, в общем-то характер Шапошниковой в принципе очень подходил к этому, если бы она шла той дорогой, которую мы тогда как-то согласовывали. А потом Румянцева была очень важна на том месте, где она была − в музее.
[9:04]
А теперь самый, наверное, больной вопрос: общественный или государственный? В частности, от вопроса о Румянцевой можно к этому перейти. Почему Румяцева не возникла как кандидатура? Потому что музей – это сугубо государственная, и тогда, тем более. Моя идея была, вообще, совсем другой. Понимаете, надо же перенестись в 1989 год. Это была совсем другая страна, это был Советский Союз. Не каких этих фондов не было, кроме одного, но очень значимого − Советский фонд культуры, который значим был, прежде всего, потому что номинально, но иногда и по настоящему, в нём, в общем-то, царил Лихачёв. Лихачёв тоже не всеми был принят, и так далее, но, тем не менее, это была фигура, которая могла пытаться выступать "за", выступать "против", но это была фигура. Это был Советской фонд культуры, по сути, это было министерство культуры, на самом деле. Но главное, не на первой роли, но всегда в президиуме, там была первая леди государства − Раиса Максимовна Горбачёва. И вот Раиса Максимовна, конечно, была здесь просто козырным тузом.
Таким образом, Советский фонд Рерихов становился одним из департаментов, как бы, квази, общественной организацией Советского фонда Культуры, и имел бы двух патронов: патрон − Раиса Максимовна, и патрон − академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Это снимало возможность политического нажима, это снимало возможность академического и прочего нажима. Лихачёв пользовался... это был академик, которого знали.
[11:42]
И, когда в письме, там сказано о том, что это общественная организация, это имелся в виду Фонд культуры, и ничего другого. Святослав к государству, в принципе, относился очень позитивно. Вообще не надо думать, что Святослав − прирождённый антисоветчик. Я помню, много лет тому назад, задолго до этого, я ему сказал: "Святослав Николаевич, пишу статью о батюшке Вашем, что-то у меня всё в таких красных тонах получается, будто под красным знаменем?". А разговор был один на один. И он усмехнулся и сказал: "Но ведь так и было. Это же правда".
Теперь уже забыто, что сказал Николай Константинович о Сталине: "Мудрое слово заповедал на Кремлёвском холме маршал Сталин". Что он писал о Ленине, но это всё-таки вспоминают. И потом его картину, справедливо или не справедливо, приписывают облику Ленина. А о Сталине я прямо спрашивал Святослава: "Ну, скажите между нами, неужели там в Гималаях вы ничего не слышали про эксцессы, про 37-ой год, о всё такое... Как вы вообще в семье к нему относились?"
[13:11]
− Ну, конечно, мы всё знали. Но мы исходили из того, что этот человек, который соединил страну, который её вывел, ну, и так далее, и так далее. И так называемые эксцессы не могут всё это заслонить.
На что я злобно сказал:
− Ну, это, Святослав Николаевич, действительно взгляд с Гималаев.
На что он сказал:
− Индивидуальные судьбы были, конечно, ужасны, но в целом, так называемые эксцессы не должны заслонять того великого, что было сделано.
В общем, наверное, так оно и есть. Нельзя же только одно. Это действительно была безумно сложная фигура, был безумно сложный период. Значит, в семье Рерихов это обсуждалось. Я повторю, что я говорил в других местах, это ходит по интернету, у меня были личные интересы задать вопросы Святославу. Будучи большим поклонником Александра Николаевича Вертинского, я понимал, что ни один человек, ни один журналист Рериха об этом не спросит, а я спросил:
[14:28]
− Вам это имя о чём-нибудь говорит?
− Да, конечно, говорит.
− А как Вы к нему относитесь?
И он сказал мне очень интересную фразу:
− Духовно он был нам совершенно чужд. Но он был очень, очень талантливый человек.
И тогда я ему сказал, что в кабинете А. Вертинского на самом видном месте стоит большая белая книга рижского издания о Рерихе, с которой у меня тоже начался путь к Рериху. Я помню, огромная книга, где-то здесь она стоит. Она казалась для меня такая огромная. А отец всё собирал о Рерихе ещё до революции. И передо мной открывается первая там картина. Я задаю вопрос очень странный для маленького мальчика, я говорю: "Кто он?" И получаю ещё более странный ответ, как сейчас помню, вот здесь стоит отец. На вопрос: "Кто он", − отец отвечает: "Он ещё жив". Вот с этого у меня завертелось.
Так вот, возвращаясь к этому, Святослав , в общем-то, с самого начала, играл всю ситуацию, кстати и Юрий тоже, с государством. А с кем было играть то? Это это была единственная возможность. Другое дело, что государство крутилось, вертелось, обманывало, тут много чего было. И Юрий, в общем, не очень преуспел. Хотя у него были отдельные маленькие победы. И, тем более, Святослав, живущий очень далеко и имевший иногда возможность пообщаться, но правда, с первым лицом государства. Но всё равно это давало достаточно мало. Я не говорю про Живую Этику, об этом, вообще разговора не было. А вот картины, а вот писания их, наследие? Но то, что в ЦК уже тогда рассматривали вопрос о том, как уговорить Святослава передать наследие в Советский Союз − это я знаю, потому что перед моей поездкой в Индию, мне позвонили из ЦК и сказали: "Вот Вы едете… " Даже сказали такую вещь: " А Вы можете по дороге назад, не возвращаться в Москву, а заехать к Рериху?" Они были в курсе моих предложений, но не поддерживали их никак: "А вот прощупайте обстановку, если можно". Меня это только устраивало.
[17:38]
А.Люфт:
– А почему не сразу создать государственный музей? А зачем было связываться с Советским фондом Рериха и т.д.?
– Ну, вот слушайте. Значит, роман или антироман Святослава с государством развивался, в общем, более в сторону неуспешности. Более того, в последние годы Святослав ориентируется не на Советский Союз, а на Болгарию. Там он имеет выход на мадемуазель Живкову. Живкова, в общем-то, извините за каламбур, такая живая девушка. По сути дела, так сказать, она первая леди − полная власть, полное благоволение ото всюду. И, в общем-то, она как раз интересовалась не только картинами, она была заинтересована по-настоящему. И вот тут я появляюсь...
А.Люфт:
– Вы имеете ввиду под словами "по-настоящему" Живую Этику, Учение?
– Да, да, она это знала, её это привлекало.
– И она читала Учение?
– Да, да, она общалась со Святославом именно в этом ключе. А картины были как бы вторичны. Поэтому он уже почти разуверился, что наше государство что-то сделает. Тут появляюсь я с компромиссным предложением.
А.Люфт:
– А в чём он разуверился? Какие были первые шаги неудачные?
– Ну, я так не смогу, я помню, мне где-то показывали вот такую папку всяких обращений, ещё Юрия, и Святослава. Всё время его водили за нос. Говорили, что и музей будет, и ещё что-то. Я не могу перечислить все эти шаги [на память].
[19:59]
Вот эти последние годы перед 89-м, в общем-то, уже ничего не предпринималось. И тут, погибает Живкова, т.е. Болгария закрывается. И он в некоторой растерянности, он понимает, сколько ему лет... Да, и вскоре погибает Индира Ганди, с которой у него были очень хорошие отношения. И вот так он, в общем-то, остаётся как бы один, и на нём вся ответственность обо всём. Он сам, сидя там в гостинице Ашока, придумать из этого выход не может. И тут появляется молодой человек, − ну, в общем-то, не очень молодой, но уже человек, − приезжает с неким планом. Я ему честно сказал, кто против этого плана, кто как. Он слушал очень внимательно. Я ему рассказал, что такое этот Фонд культуры, хотя он уже об этом знал.
А вот потом уже, начинается интересная игра здесь. Это начинается с моей встречи с Раисой Максимовной. Это было очень интересно сделано. Она приехала в Фонд культуры и запретила кому бы то ни было присутствовать на этой встрече − встреча на двоих. Там охрана, там всё руководство этого самого Фонда стоит, дрожит, как в "Ревизоре" вообще всё, а мы с ней один на один. И она с ходу говорит:
− А Вы знаете, а я не согласна. Зачем это делать частью Фонда культуры?
Я же не могу ей сказать: "Потому что ты первая леди, потому что ты поможешь", − я так не могу этого сказать. Я и так ей сказал что-то там, и она сразу говорит: "Ой, ну, Вы вообще скажите ещё: "Доцент Горбачёва"", − как будто "Доцент Горбачёва" − это выше, чем первая леди. Ну, вот такая она вся... Но тем не менее она говорит:
− А почему это нельзя сделать это отдельно? Отдельным фондом?
Восемьдесят девятый год, всё уже клонится, уже возможно проявляться каким-то другим … и тут было важно, ну, в общем, нужно сказать, что моя дерзость не зашла так далеко, чтобы сказать , что нужно создать отдельный Фонд и получить поддержку от неё. Но тут, она сама это предлагает. И потом она делает совершенно замечательно, что я никогда не забуду. Она увидела, что я как-то задумался и расстроился, − а мы сидим вот так вот за столиком, − она положила мне ручку окольцованную, и сказала:
− Ну, Вы не переживайте, Вам я всегда буду мамой.
[23:05]
Но, это значило много. Это значит, что она, сидя там в Фонде... в принципе, это ещё лучше. Мы тогда делаем рериховское направление, и в любой момент опираемся на Фонд [культуры], но не подчиняемся ему. То есть получаются шире возможности. И опасения насчёт того, что общественная организация не устоит, или что-то... − они здесь отпадают. Это получается, столько же верноподданное, так сказать, как Фонд культуры. Но в этом не было противостояния с государством. Не было противостояния с музеем. Тем более, музей [Востока] тогда особо не возникал, у музея была выставка, музей имел двести пятьдесят, что-то, картин, которые выставлялись. И тогда не стоял вопрос, кому они принадлежат: музею Востока или не музею, Святославу или не Святославу.
Более того, я не возьмусь сейчас без документов, без всего, говорить, что я знаю позицию и реальность того, что с эти картинами было, потому что Святослав принимал какие-то разные решения по этому поводу и подписывал разные бумаги. И когда меня сейчас как свидетеля привлекают и говорят: "Вы же были при этом, он не мог же подписать." − Мог. Он не видел ничего. Ему подсовывали бумаги. Это было ужасно! Но я же не вижу, какую бумагу, я сижу вот здесь, а здесь сидит он, и ему подсовывают бумагу. Он кладёт руку так и говорит:
− Но здесь всё правильно?
− Правильно, правильно, подписывай.
Так что уверен, что всплывут какие-то бумаги, подписанные им, но... они им подписанные. Или вот один исследователь говорит: "Ну как Вы можете объяснить, что текст составлен на русском языке, а он подписывает на английском?" − да тем же самым, он не видел, что он на русском языке. А его привычнее, подписаться латинскими. Это не поделка. Но это и не подлинник в полном смысле этого слова.
[25:38]
Вот, и, надо сказать, что дальше всё завертелось, оно завертелось. Потом создали этот самый фонд, . Это было в стиле того времени такое шумное, крикливое собрание, но тем не менее оно приняло основные документы. Я не могу удержаться и расскажу одну историю.
В самый момент открытия, вот остаются минута-две до открытия, мы стоим с Раисой Максимовной , беседуем о моей новой книге , которую я до сих пор и не дописал − это биография Махатмы Ганди. Я ещё ей сказал, что пишу не для публики, а для Вашего мужа пишу. Он никогда её не прочитает, но Вы прочитаете и ему расскажете. Да-да-да. Да-да-да.. Тут подходит Мясников, − он был в руководящих органах Фонда культуры, а собрание происходит на территории Фонда культуры, − и говорит:
− Раиса Максимовна, все собрались.
И я ей говорю:
− Ну, что ж, Раиса Максимовна, пора идти, как говорит наш с Вами общий любимый Святослав Николаевич: "Давайте вместе стремиться к прекрасному".
Она идёт. Садимся за огромный стол. Так она, я человека через три от неё сижу. Второе слово берёт она, первое − Мясников, и начинает говорит, глядя на меня, причём.
− Недавно, − говорит она, − один умный человек, не помню кто, сказал мне замечательные слова: "Давайте стремиться к прекрасному!" Я добавлю только одно слово, друзья: "Давайте вместе стремиться к прекрасному".
[27:54]
Я оценил их, ничего не могу сказать.
Там были, вообще, и скандальные моменты, связанные с Сидоровым. Ещё что-то. С Феликсом Кузнецовым, которого забаллотировали по моральным качествам, сказав, что нечего ему там делать. Но, тем не менее, определённая группа была инициаторами. И Людмила Васильевна Шапошникова, которая, мы как-то упустили её, после нашего тогда телефонного разговора, она предложила публикацию этого письма. Через свои каналы, через своих знакомых. И так оно пошло куда-то, в "Советской культуре" по-моему это появилось. И мы решили, что это письмо, поскольку оно подписано... Оно действительно подписано им. Не важно, по большому счёту, не важно, кто его писал, он согласился с этим, он его подписал. Поэтому это действительно, его письмо. Просто я могу пояснить некоторые вещи, когда говорят о воле Святослава, я могу пояснить, что могу объяснять, что стояло за этими фразами, потому что эти фразы на бумагу клал я, и ему предлагал, а он соглашался.
А.Люфт:
– Это самое важное, да.
– То есть, у него не было резко антигосударственного. Он ухватился за возможность присоединиться к Фонду культуры, потому что он понимал, что это такое. Он понимал роль первой леди. А не то, что он просто люто ненавидел музей, и не хотел, чтобы там разворовывали, писали неприличные слова, и так далее и так далее. И потом он приехал. Там масса всяких самых детективных историй сопровождало его приезд. И очень надеялись, что он всё наследство привезёт с собой.
[30:05]
Я когда-нибудь об этом расскажу, потому что это интересные вещи, там, конечно, шли тектонические сдвиги вокруг. А он привёз одну или две картины в подарок Горбачёву. Накануне дня, когда он должен был встречаться с Горбачёвыми, подчёркиваю, с двумя Горбачёвыми, звонит Кадакин, который до сих пор посол в Индии, на дачу, где жил Святослав, и говорит:
– Ростислав Борисович, я Вас официально прошу, подойдите к сейчас к Святославу Николаевичу и попросите его, завтра, когда он встречаться с Михаилом Сергеевичем, чтобы он сказал: "Я передаю наследие своих родителей и моей семьи советскому народу в Вашем лице".
Я ему говорю:
– Алик, Вы же знаете, что я не поддерживаю эту идею, но Вы звоните официально. Я без комментариев передам, и без комментариев Вам потом скажу ответ.
Ответ был замечательный. Вот это ещё раз, когда Святослав вышел из себя. Он хлопнул кулаком по столу и сказал:
− Я же ему сто раз сказал, что этого не сделаю!
Я туда не ездил, а ездил Житенёв, но на самой встрече не был, просидел в предбаннике. А я ждал на даче. И когда они приехали, они входят, и Дэвика манит меня к себе пальцем, и там в низу, в дверях, тихо говорит шёпотом: "Кадакин был там, но он был такой маленький". Но это естественно. Конечно, он не мог как-то повлиять на события. Но встреча прошла очень хорошо. Надо сказать, что Святослав относился к этой чете очень , очень позитивно. Ему нравилось как Раиса Максимовна, какие вопросы задавала. Но и сам Михаил Сергеевич ему нравился. Они почувствовали, и какая-то нотка пробежала.
Потом ещё одна воля Святослава – это усадьба Лопухиных.
[33:01]
А. Люфт:
– Прошу прощения, а почему он не хотел сказать, что он всё передаёт советскому народу?
– "В Вашем лице".
– А-а, именно его смущало...
– ...что он передаёт Горбачёву.
– Его смущал не народ, а...
– Нет, "народ" так и осталось. Нет, про народ там осталось везде, в документах, но нигде нет имени Горбачёва. А именно "В Вашем лице" − это "владей всем, Михаил Сергеевич". Нет!
[33:37]
Значит, теперь с усадьбой. Когда Святослав приехал… В общем-то приезд этот был очень тяжёлый. Во-первых, поселили его в одном из особняков Политбюро − бывшая дача Фурцевой. Фактически закрыли возможность с ним общаться. Конечно, прорывался народ, тот же Смирнов-Русецкий, и ещё кто-то. Прорывались, прорывались те, кто мог в обход охраны, а охрана была направлена на Шапошникову, то есть она руководила, кого пускать, кого не пускать. Надо сказать, что в этом был резон, потому что в разгар всего появилась какая-то женщина с младенцем, который кричал, что Святослав его отец и так далее. Но сумасшедший дом он и есть сумасшедший дом, всегда.
И встал вопрос об усадьбе. Я отстаивал другое место, но опять встал вопрос о расселении, там нужно было 27 семей расселить. Это по ту сторону бульвара, рядом с особняком Василия Сталина. И когда мы ехали, набитые в машину, Мэри сказала:
– Я попытаюсь угадать дом, который ты выбрал. Мы будем проезжать мимо этого дома? – я ответил:
– Будем.
– Я попытаюсь угадать.
И она угадала. Она говорит:
– Вот этот?
Ну я не знаю, было бы лучше, или хуже, не знаю. Мы приехали туда. Вот насчёт того, как он выбирал эту усадьбу. Ему показали. Шёл ливень. Он вылез, мокрый, без шляпы, не глядя на усадьбу, вот так повернулся, стал спиной к ней и спросил Житенёва:
– Но Вам нравится?
– Нравится.
– Ну и слава Богу! Поехали отсюда.
Он не смотрел её. Усадьба, действительно, хороша. Флигель хорош, ведь долгое время жизнь шла вообще во флигеле.
И вот уже потом началась жизнь подготовки к приёму наследия. Житенёв и Шапошникова уехали в Бангалор принимать наследие. Я в меньшей степени, но были другие товарищи, которые занимались этими вещами, в общем, оборудовали там такое бомбоубежище для картин и всего другого, что некоторое время спустя, Раиса Максимовна сказала почти с досадой:
– Как это вам это всё-таки удалось?
[36:46]
А тем временем мне выпала поездка в Индию, причём такая сжатая, потому что я должен приехать, какие-то дела в Индии, затем заехать в Бангалор, и потом по линии ЮНЕСКО лететь в Багдад. Причём, в Багдад я не как мог лететь, потому ЮНЕСКО не переводили деньги. И я там носился, мне ведь надо уезжать, мимо открытой двери, в открытой двери сидел Святослав. Обычно он сидел и читал "Добротолюбие". Святослав Николаевич посмотрел на меня и спросил:
– Ну, как? – я говорю:
– Ну, нет денег пока, – а у меня своих нет.
– Вы, дорогой мой, не волнуйтесь, мы Вас выкупим.
Вот, но потом всё это обошлось.
Я приехал [в Бангалор], никого нет. Святослав спит в гостинице, а эти, значит, шуруют в имении. Через какое-то время они приезжают, бросились как родные.
– Ну, пойдём к нему.
Я говорю:
– Он спит сейчас ещё.
– Ну, ладно.
Через какое-то время, я уж не помню, будили его или нет, пошли к нему. Шапошникова, Святослав Николаевич, я. Идёт разговор, какой-то он мне не очень понравился, какое-то напряжение между ними. В этот момент входит Житенёв и подаёт Святославу какую-то бумагу, значит, какие-то отобранные вещи… Он смотрит, и говорит:
[38:33]
– Ну, это мы погодя посмотрим, здесь надо подумать.
Шапошникова говорит:
– Ну, начинается!
И он сжался. Он прямо сжался на глазах. А само наследие тоже на меня произвело очень удручающее впечатление. Достаём свёрнутую вот так в шкафу какую-то картину, холст. Это "Земля славянская", их несколько вариантов, три по-моему – это один из них . Она наполовину съедена крысами. Крысы там выскакивают из этих шкафов. Где-то на кухне стоят две таких баночки. На одной написано "Папа" , на другой "Мама" - это пепел. Святослав забывает многие вещи. Вокруг Дэвики крутится какая-то индийская мафия. Приходят какие-то странные письма из Москвы. В частности, очень антирумянцевские письма шли. И тут такой клубок. И какой-то он... Как-то жалко его было. Он какой-то растерянный, потерянный. Я даже подумал, что может и не надо было затевать всё это дело?
[40:17]
А. Люфт:
− Погибло бы всё, крысы бы всё съели.
− Крысы бы съели? Да, вообще трудно сказать...
− Индусы растащили бы.
− Не надо, не надо. Индийцы пятьдесят лет всё это содержали, помогали. Причём для них Рерих ничего не значил. Рериха стали поднимать после того, как съездил Хрущёв, а так его знали очень не многие. Ну, Святослава знали как живописца. Вот он Индиру Ганди написал, Неру, всех их там, он придворный такой был. Юрия знали как учёного. Но в принципе, имя Рериха было мало кому известно, кстати, так же как и у нас, кроме искусствоведов.
Не знаю, с другой стороны, всё что там осталось в Индии, оно ведь тоже не процветает особенно. То, что на севере, в долине Кулу, оно … понимаете, я тогда ещё успел, вот тогда в тот приезд, я поехал в Кулу. До этого там никогда не был. А не был потому, что Святослав всегда собирался поехать вместе. Я честно говоря, уже перестал верить. Я думал, так вежливо говорит − хорошо ко мне относится. А вот когда я уже приехал туда и с домопровительницей, с работницей, стал разговаривать, она вдруг говорит: "А, ты такой то? А Святослав говорил всегда, что Вы вот-вот приедете, и вот". Оказалось − это правда. Но ещё при этом были Пенджабские события. Я съездил тогда, когда шофёр белый стал, когда нам в 12 часов ночи перегородили дорогу мешками. Ну, не важно, там стреляли по машинам, по людям, там много чего было. И вообще это отдельная тема. Как-нибудь отдельно об этом расскажу. Кстати, сопровождал меня Росов, это его была первая поездка в Индию. Летим туда, а он спит сном младенца. А я смотрю в окно… Какой-то необычный маршрут был, самолёт шёл вдоль Гималаев. Это было ночью, а Гималаи уже розовые. Я подумал, что он не простит меня, если его не разбужу. Я его потряс и говорю:
[42:56]
− Смотрите в окно.
− Зачем?
− Там Гималаи!
И мне вспомнился, с чего начинается книга "Семь дней в Гималаях" − "Гималаи я проспал", написал Сидоров. А я потом сделал это эпиграфом для разгромной статьи о книге "Семь дней в Гималаях". А потом устыдился, подумав, что человек сделал, что мы не сделали: написал книгу и читают её миллионы. Не надо было мне над ним издеваться. Потом у нас пошли отношения лучше, и потом мы вместе пришли к Святославу. И он, глядя на нас, сказал значимую фразу: "Ну, наконец-то, вы вместе в ваших присущих вам одеждах". Что-то такое. Одежда, я же не знаю что там − крылья, свет, хвост, рога, − не знаю что. Во всяком случае он отнёсся к этому как к единению двух держав.
Вот. Всё что там сейчас, в Урусвати − это, к сожалению, всё естественно, но это не то. Вот тогда, когда я приехал, это в общем-то был 89-й год, там жили люди, которые знали. Ещё в прихожей висела вот так вот наброшенная шляпа Рериха, вот будто он выходил и повесил. Ещё жил человек, который рассказал, как умер Николай Константинович. Это совсем не так, как у нас пишут − у нас он болел там два месяца, мало ничего не соображал. Ему говорили, что на медведей охотятся, а на самом деле это уже была междоусобица с мусульманами, ещё что-то. Ничего подобного. Он был крепок. Он ходил. Он взял этого человека, с которым я разговаривал. Он взял его в лес и сказал: "Вот эти деревья для моего погребального костра". Потом пришёл в дом, лёг и через день умер. То есть, не было долгой болезни. Это было решение или предчувствие, я не знаю. Но это был уход другого плана совсем. А не то что там он валялся больной, температура, весь в поту, и прочее.
Вот, была атмосфера. Потом попал я туда спустя лет пятнадцать-семнадцать. Ну, старались как лучше, а получилось, как всегда − опять же великий Черномырдин. Потому что забетонировали как-то, да, он теперь не разрушается, но уже не тот дом. Этот самый Гуго Чохан, который стоял там всегда, на всех картинах виден. Туда снесли ещё двадцать таких же, и говорят, что вот это место, где они и должны стоять. Ну почему они должны там быть? Что, Николай Константинович не догадался их там поставить? Ну, ладно, это ничего страшного.
[46:29]
Рядом собирались строить, слава Богу, что это ушло, собирались строить огромный торговый центр, наподобие нашего Ашана, или как там они называются в Москве. И где продавались бы сувениры. Конечно прибыльно, конечно хорошо, но атмосфера и так совершенно хрупкая. Пустили автобус рейсовый, то, против чего десятилетиями дрался Святослав. В результате гибнут редчайшие растения. Автобус ходит не часто, один раз в сутки, но это уже всё другое. И ехать на автобусе – это не то, что идти туда пешком.
С другой стороны, повесили картинки, "Урусвати" оживили. Там в моё время просто замок висел. А сейчас есть, кто-то что-то там делает. "Урусвати" нужно изучать, тоже много мифов вокруг института. Даже в лучшие времена, при Юрии Николаевиче, да, по-моему и Николай был ещё жив, там был какой-то учёный из Японии, который занимался то ли Достоевским, то ли ещё чем-то, там сидел и работал. Лучшего места не нашёл. Вообще. Сейчас нужно смотреть, какие-то важные вещи происходят. Но то, что гибнет там флора − это развитие, это понятно.
[48:06]
А. Люфт:
− Ростислав Борисович, если вернуться к этому моменту, когда вы сели, значит, Житенёв, Вы, Шапошникова в гостинице "Ашока". Как дальше развивались события?
− Да, никак. Он сжался, она вот так... даже собралась уходить, не будет продолжать беседу. Но я тут как-то, ля-ля, Людмила Васильевна... Я один раз вообще... Я думаю, она мне этого никогда не простила. Ну, так она мне надоела своим я и давлением, что я просто взял её на руки и стал носить по комнате. Она кричала: "Поставьте меня на место". Но ничего, потом засмеялась и всё обошлось. У нас с нею были отношения давние. Как недавно мне удалось выяснить, ведь она моя учительница. Ведь на фотографии выпуска моего университетского среди учителей она там есть. Я помню, она там несколько часов преподавала хинди, после чего я перестал верить в её книги, где она блестяще разговаривала с такими деятелями как Раджи Пур Ачарья, которого она ставила чуть ли не в угол со своей коммунистической логикой. И он говорит, что с вами, коммунистами, трудно разговаривать. Она всё это не афишировала. Кстати, прочитайте в её в лучшей, блистательной книге "Тайна племени голубых гор" всё, что она пишет о Блаватской. Впрочем, что интересно, многие люди, вроде меня, никогда не преклонялись перед Блаватской, но никогда не позволили себе таких слов, а тут, вот такое. Ну, это, в конце концов, такая эволюция может быть.
Кстати, одна характерная ошибка Людмилы Васильевны. Что, где-то она опубликовала, что, точно не помню, но это всё восстановимо и там я читаю Рериха и у меня глаза на лоб лезут: "... в этом вся контрреволюция!" Ничего себе, это как комиссар Балтийского флота пишет . Я полез в первоисточник, а это переиздание, и читаю: "... в этом вся контр эволюция". А это совершено разные вещи. А тут, по привычке.
[50:53]
С другой стороны я хочу сказать, поскольку у меня, наверное, больше не будет такой возможности. Я хочу сказать, что при всём при том, что МЦР, на мой взгляд, совершенно нелегитимен и т.д. − это отдельные разговоры. Совершенно безобразное отношения ко всем на планете, вообще, ко всем − близким и далёким. Совершенно безобразное отношение к людям. Список людей, которых она уволила, раз в десять будет больше того, которые, в конце концов, там работали. Но они всё-таки сделали много. Они много опубликовали, они привлекли внимание, к сожалению, не всегда позитивное. Я помню на каком-то заседании Правительства возникло имя Рериха, и кто-то просто бросил: "Там, где Рерихи, там скандал". Самое последнее, что можно сказать, казалось бы.
Я исповедую взгляд Вивекананды: "Всё, что разъединяет − это плохо, всё что соединяет − это хорошо!" Конечно, деятельность МЦР была на разъединение и на попытку, в очень странном смысле, захватить всё.
Но издано много. Имя на слуху. И вообще, нет ни одного художника в России, о котором столько опубликовано столько различных материалов. Так что это даже диспропорция. Впрочем, как о художнике, не только как о Живой Этике.
Последнее, что я хочу сказать, что, в конце концов, самолёт, всё-таки прилетел. Самолёт прилетел. В принципе, это абсолютно не законная вещь. Оно не законно со стороны Советского Союза, оно незаконно со стороны Индии. Это личная договорённость Горбачёва и Раджива Ганди. Но, естественно, при тех отношениях Индии и России, которые существуют, никто в это вникать особенно не будет.
[53:15]
Но наследие, я помню, я приехал встречать. Я помню, как его Шапошникова как , регулировщик-полицейский стояла и делила: "Это мне на квартиру, а это туда! А это, Ростислав Борисович, я вас прошу, не спускайте глаз вот с этого. Это мне на квартиру, но просто, чтобы оно никуда не делось".
− Никакого учёта не было?
− Я не знаю, что там было в самом музее, наверное, был какой-то, но здесь это было так.
− А кто поехал на её квартиру?
− Она, какие-то рабочие. Там много было народу, вообще.
− Какие это были объёмы? Чемоданы или что это было?
− Вот то, о чём я говорю, это было о чемоданах. Нет, на картины это было не похоже, ведь картины были упакованы. Это был такой тёмный чемоданчик.
Вот, но к этому времени у меня с нею уже начались конфликты по многим причинам. И в частности, довольно странная для слушателей, которые знают позднюю Шапошникову, она прямо сказала: "При мне слово "культура" не произносили". Дала понять, что этим мы заниматься не будем. А у меня вся идея была, вообще изменение культурной ситуации в стране через этот Фонд. Без разницы, будет ли он частью Советского Фонда культуры. Тогда бы мы весь Фонд культуры подтянули бы до уровня, но отдельно тоже неплохо. Внутри музей, там специалисты, занимающиеся Живой Этикой, внутренними вещами, а дальше вклад Рерихов в разные области, а потом сама эта область. Допустим − молодёжь, допустим − восстановление памятников. Вот тут тоже маленький сегмент, чем занимался Рерих − восстановление памятников. Мой отец – археолог, сказал: "Блестящий археолог − Рерих". Для того времени нет такого с позиций сегодняшнего дня. Всё великолепно.
− Ваш отец ценил Рериха как археолога?
− Да, он считал, что это великолепно. Вот, это тоже требует тщательного изучения, ведь многие люди не знают, кто такие Рерихи и что собою представляет их наследие. Но они будут руководиться отсюда, из центра. И вот тут создавать программы, широкий спектр и, в том числе, где Рерих вроде бы ни причём − армия, образование, вообще. Идея была через наследия Рерихов изменить всю культурную ситуацию в стране. В стране, которая рушилась − это было ясно. Но нужно было что-то противопоставлять, и при том позитивное.
[56:37]
− То есть масштаб должен был быть другой.
− Совершенно другой. Но и подход ко всему другой.
− И на этой почве вы...
− Нет, на этой почве нет, потому что это было внутреннее. Это я просто понял, что совершенно не то.
− А как получилось, что Вы ушли или она Вас отстранила?
− Ну, это тоже история, она не очень красивая. Там задержалось всё из-за приезда Кэтрин Кемпбелл. Кстати, последняя моя фотография внутри здания − это мы сидим и разговариваем с Кэтрин Кэмпбэл. И Шапошникова ещё успела мне сказать, что вроде бы Кэтрин Кэмпбэл высказалась против Житенёва, которого она, правда, никогда не видела. И за меня, которого она видела, но маловероятно всё это. Житенёва сожрали просто. При чём, как сожрали? Буквально перед началом [собрания правления СФР] Шапошникова мне звонит по телефону и говорит: "Ростислав Борисович, я буду выступать, может быть, некоторые пункты моего выступления Вас удивят. Не задавайте никаких вопросов. Я Вас очень прошу. Если Вам покажется, что я вру, или ещё что-то, не задавайте вопросов, я Вам потом объясню". Житенёва довели до сердечного приступа во время [собрания правления СФР], вызвали скорую и увезли. И, вот что он до сих пор не может ей простить, ибо она сказала: "Он притворялся". А он уехал при смерти. Она сыграла, действительно что-то такое, я не помню, были ли какие-то вещи, якобы Житенёв держит катер на Белом море. Какое моё собачье дело, кого бы он где не держал, хоть чагу-невольницу, а мне то что, и Рериху что? В общем, не знаю. С Сергеем Юрьевичем мы поддерживаем отношения, но как-то о Рерихе мы уже не говорим. А ведь самое зерно вот этого... Я даже помню место в Москве, мы вышли, он был в Фонде культуры тогда. И вот самое зерно всего этого движения − мы стояли на перекрёстке, вокруг машины ездили, а мы начали вот это разматывать, обсуждать.
[59:09]
Вот, Кэмпбелл уехала, и я пошёл к Шапошниковой сказать, что всё. Да, справедливости ради, я не могу не сказать, что в момент, когда создавался Фонд, Шапошникова на полном серьёзе предложила мне абсолютно диктаторские полномочия для стопроцентного руководства, она это предложила.
− Вам?
− Да.
− А она кто тогда?
− А она вице президент, ещё что-то там.
− Почему Вы отказались?
− Потому что, − давайте я скажу откровенно, − потому что я не рериховец вообще. Я индус, я последователь Рамакришны, я, вообще, к этому имею отношение только как человек с детства любящий картины Рериха, и как человек с шестидесятого года по семейному, хорошо сдружившийся с Святославом, просто, ну, грубо говоря, как человек нашего круга. С ним я очень естественно общался, и даже ловил на себя на том, что, когда он говорил какие-то словечки семейные, такие же и у нас в семье. Это было какое-то своё. А всё остальное, даже выставлены картины или нет, в общем то, мне всё равно. Руководить переменой культурной жизни в стране − я уже видел, что это не пойдёт.
[1:00:52]
− А Вы были директором института тогда, когда она Вам это предложила?
− Нет. В то время я был зам.директора, тоже ничего.
Она это предложила. Я думаю, что... А она девушка очень умная была и, конечно, она была уверена, что я откажусь.
− Но на всякий случай предложила.
− Но это интересно было бы, если бы согласился. Но, слава богу...
− Она Вас всё равно бы потом...
− Ну, естественно.
И вот, я пришёл к ней с тем, чтобы... Но до этого я побывал у Святослава, неожиданно. И я ему рассказал всё, что об этом думаю. Он расстроился, но не безумно. Я говорю:
− Что с этим делать, Святослав Николаевич?
− А не надо ничего делать. Есть путь, став на который, надо двигаться вперёд. И путь этот сам выведет. Этот путь очень трудный. Это очень долго. Но пока посеяно только семечко. Из этого вырастет большое, большое дерево. А что касается всех этих, шапошниковых и прочих, всему найдётся своё место.
Вот такой был ответ. Я сказал:
− Я Вашу мысль понимаю, Святослав Николаевич, но я не могу Вам не сказать. Я по возвращении покидаю Фонд Рерихов.
− Я Вам запрещаю это делать.
− Святослав Николаевич, при всём уважении, это моё решение. Я там оставаться не могу.
− Хорошо, − сказал он, − тогда дайте мне слово, что Вы останетесь в руководстве, так сказать, в общем, ну, какой-то там совет или ещё что-то. Не надо быть вице, не надо быть кем-то.
Я говорю:
− Хорошо, это я согласен.
[1:03:10]
И вот, когда я приехал, пришёл к Шапошниковой, и сказал: "Так и так, у нас с Вами не получается. По морально-нравственным соображениям я с Вами работать не могу". Она начала монолог, надо сказать, очень убедительный. Вот тут я, последний раз в жизни, наверное, испытал острое чувство стыда. Потому что вот здесь у меня стоял кейс, там были документы, уличающие её во лжи в каждом слове. Я не мог себя заставить раскрыть [эти документы], и сказать: "Врёшь, не так всё это".
− Нет, кто Вам сказал? − говорила она.
Я сказал:
− Нет, моё решение окончательное.
И тут, очень некстати, вылезла Тоотс. Первый раз я увидел Тоотс, очаровательная блондинка такая, она всунулась в дверь и сказала:
− О, Ростислав Борисович, как это здорово, что я Вас увидела − мы только что сделали Вам Ваши визитные карточки как вице-президенту.
Это была последняя секунда. Вот, и я сказал:
− Единственное, что я вынужден Вам сказать, Людмила Васильевна, что я поставил в известность Святослава Николаевича и он поставил мне вот такое условие: что я не выхожу [из фонда] полностью. Она на это промолчала, а через два дня я получил бумагу, о том, что единогласно, по моей просьбе, выведен из Фонда напрочь. То есть она знала.
И самая последняя секунда… Не самая последняя в жизни, мы ещё встретились потом, а вот здесь. Я в дверях остановился и сказал ей:
[1:04:58]
− И запомните, Людмила Васильевна, тот вред, который Вы приносите и принесёте Рериховскому Движению, во много раз больше того, что сделал в своё время Хорш.
Вот тут надо было увидеть, у меня было ощущение, что у неё когти выросли. Она стала приподыматься и говорить:
− Десять, девять, восемь, …
И где-то на пяти я закрыл дверь, потому что думал, взорвётся.
Проходит ещё года полтора, в Бангалоре съехались. Я иду по коридору, идёт навстречу Шапошникова, как всегда в трениках, вообще, всё как надо. Я ей говорю: "Здравствуйте, Людмила Васильевна!" Ну что же, знакомы же. Она не здороваясь, прошла дальше. Ради бога. А дальше была очень интересная вещь. Собрались за круглым столом и стали создавать какой-то очередной фонд Рериха, я точно не помню, что там такое, но запомнилось слово Траст, какой-то, так назывался, но только по-английски. Всем правила Мэри, она так важно сидела, и энергично размахивала руками. А собрались разные люди: Валентин Митрофанович Сидоров с переводчиком, конечно; Старостин, это наш культурный центр; Кадакин; Шапошникова; по-моему, был Энтин; был этот Брукс-брикс, какой-то из Австралии. В общем, вот такая компания была интересная. Все друг друга терпеть не могут, но это интересно. Мэри там царствовала, но Шапошникова её перетягивала немножко. Но тогда между ними была любовь. И вот тогда Мэри подсовывала документы. Но только я знаю, что Мэри хитрая − она подсовывала и анти-шапошниковские документы. Они ещё всплывут когда-нибудь.
[1:07:17]
Там получился один казус, который для меня до сих пор не понятен. Что-то квакнул Кадакин − совершено нормальное что-то. Вдруг Шапошникова посмотрела на него взором Собакевича и говорит:
− А Вы кто такой? Вот мы все здесь, мы старые рериховцы, и этот, и этот, и этот, дошла до меня, содрогнулась от омерзения, и этот, а Вы кто такой?
Кадакин растерялся, и было отчего. Ведь Кадакин – дипломатический работник, который нашёл "Мерседес", на котором когда-то Рерих ехал, они втащили его в гору туда, короче, что-то делал, может какие-то свои интересы имел, но делал, может что-то и не понимал, но делал всё это искренне. И вдруг она его облаяла. И он не знал, что делать и как. Но самое пикантное во всей этой истории было то, что ведь Святослав ещё был жив. И был в этой гостинице. А его не было. А не было его потому, что он уже не передвигался.
[1:08:39]
Сделали конференцию, посвящённую всем Рерихам. Я сейчас не помню, кто о ком, что говорил. Шапошникова, наверное всё-таки говорила об Елене Ивановне, кто-то о Николае Константиновиче. А мне выпала честь говорить о Святославе. Была киногруппа во главе с девушкой Бондарчук. Всё снимали. Святослав приехал на какое-то время на коляске, потом уехал куда-то в другое помещение смотреть по внутреннему телевидению в гостинице.
− Это в "Ашоке" было?
− Да, конечно. И там он всё это смотрел. И потом мне его секретарша говорила: "Что Вы сделали с ним? Что Вы говорили? Вы когда выступали о нём − а мы все по-английски говорили, я, во всяком случае, − он плакал".
И вот четыре Рериха, четыре докладчика. Один Рерих жив, один докладчик о нём говорит. Есть киногруппа. Киногруппа снимает всё. Шапошникова куда пошла, как говорила, как она тарталетку съела, всё снимали. Но когда я вышел на трибуну, Шапошникова сделала [отмашку] вот так, и Бондарчук отвернула все камеры.
[1:10:07]
А потом был обед, такой фуршетик. И я подхожу к столу, где всякие там канапэшки. И вдруг чувствую, меня кто-то бедром толкает, − для Индии не самый распространённый жест, − я посмотрел − Бондарчук, не глядя на меня, носом вперед, она говорит:
− Откуда у вас такой хороший английский, Вы как лорд выступали?
Я ей говорю:
− А откуда у Вас такая смелость со мной заговаривать? А вдруг Вас Шапошникова увидит сейчас, что Вы со мной разговариваете?
Тут ей уже сказать было нечего... На этом наш контакт с представительницей великой династии прекратился.
И после всего этого, мне почему-то нужна была Мэри. Я ей сказал, прошу понять правильно:
− Как освободишься, приди ко мне в номер.
Потому что я не знаю, когда она освободится. А чем она была занята? Она так и не пришла. Она через три часа проходя мимо заглянула и сказала: "Вот только сейчас освободилась", но я махнул рукой, сейчас поздно.
[1:11:19]
Эти три часа она сидела с Шапошниковой в закрытом номере. Что было? Как было? Это неведомо. Я понимаю, что это тоже мифология. Всё остальное, я могу на Бхагавадгите поклясться. А здесь я не знаю, что было. Но что-то было... А вот потом происходит полный разрыв между ними.
Исчезают картины из мастерской. Все. Исчезает южноиндийская бронза XII века. Куда она девается? А Мэри начинают обвинять. Ну, Мэри, конечно, женщина есть женщина. Вы меня извините, ничего не имею против женщин. Но, тем не менее, она подсунула слепому уже художнику несколько копий завещания. Ну, хоть бы одно было у неё, тогда бы ничего, а так у неё всё больше и больше, разными числами. В конце концов, у неё в Индии четыре норковых шубы оказалось. Ну, остро необходимая вещь в Бангалоре. В южной Индии! И много чего.
А когда-то давно, когда я первый раз услышал имя Мэри, то Святослав говорил о ней со смехом:
− Да, такая вот, она нам помогает, она очень помогает.
Я говорю:
− Кто?
− Мэри.
− Какая Мэри?
− Пунача.
− Пу-пу-пу, что?
Он даже обиделся:
−Такая фамилия.
А Дэвика меня [пальцем подзывает] и говорит:
− Мэри – это мафия.
А это было задолго, лет за пятнадцать-двадцать, наверное.
[1:13:16]
Я даже снял [на фото] тогда, когда я был в то время там, и когда Мэри и её брат повезли меня в Татагуни. Я снял, как села в кресло посреди имения, выстроила всех слуг, и командовала, нога на ногу, и командовала всеми слугами, куда кто, всё, госпожа приехала.
Ну, тут уже начинается другая история. И она имеет свои какие-то грани, потому что вокруг Мэри там вертелась, действительно, индийская мафия. И конечно, там в центре внимания были и не картины, и не Живая Этика, и не память о Рерихе. Хотя были там люди, которые отстаивали именно это. Но это были каучуконосы и ароматические вещества − это сад, который, спустя несколько лет уже после смерти Дэвики, я туда приехал, и удивился. Сад, практически, засох, пруд, на который меня водил Святослав, с биноклем и говорил: "Вот на том берегу гнездятся утки и они прилетают сюда из России". Очень трогательно, даже снято как он это говорит, только без звука. Пруд оказался лужицей маленькой. А потом, прошло ещё года четыре, и я туда приехал и жил там в Ашраме, буквально несколько, десятка два километров. И я отправился туда с христианским попом, кстати, ну, занятная была история. И был потрясён. Сад возродился, там варвары, конечно, живут, но они мне отламывали веточки деревьев и показывали: "Вот видишь, идёт масло". Я спрашиваю, про пруд, а мне отвечают, что пруд как пруд. Пруд вернулся. Вот что произошло, не знаю. Может это метафизичесое явление, а может быть геологическое, не знаю, но во всяком случае, имение ожило. Вот так вот.
[1:15:45]
"Будем стремиться к прекрасному!" И я вспоминаю последний момент моего общения со Святославом. Он уже лежал. Не вставал. Я пришёл прощаться. Он лежит. Синяя рубашка на нём такая яркая, индийская. Седая борода. Он приподнялся, я его обнял. Я чуть не заплакал... Извините... Там нечего было обнимать. Совсем скелетик какой-то. И он плакал вот так вот. И он сказал: "Помните, всегда помните, что мы Вас очень, очень любим".
Потом я уже был у Дэвики, его уже не было. И Дэвика была в очень хорошем состоянии. И когда она все эти подготовила, хотя многие говорят сейчас, что они фальшивые, я понимаю, почему они это говорят. Потому что на похоронах она была не своя, она была разбитая девяностопятилетняя старуха. А тут прошёл год или пол года, и она сверкала глазами, была во всю… Она же сказала, что это фраза Шапошниковой : "Что мы два гроба повезём − твой и его".
[1:17:35]
Ну, там, надо сказать, что там... Вы посмотрите, кстати, плёнку похорон, там очень видно, как Шапошникова в это время плетёт интриги, разговаривает.
Его последний... я вам рассказал последние мгновения нашего с ним общения. А перед этим он мне сказал фразу, от которой меня, честно говоря, несколько повело.
Он говорит: "Всё будет хорошо, всё будет хорошо". Я уже к этому как-то… Пусть Сердючка поёт, что всё хорошо. Оно всё будет хорошо, потому что будет. Это уже хорошо. Но вот он сказал фразу: "Вот теперь, всё что сделаете, всё сделается". Я думаю, всё [покрутив пальцем у виска], старик. А потом я подумал: "О-о-о, нет". Ведь смысл этой фразы: делайте, делайте, вам благоволит сейчас [показав пальцем вверх] вечность. Но сделаете, значит, сделается, а не сделаете, значит не сделается. Это напутствие на всю жизнь. Вот и теперь, что сделаете, то и сделается. Ну, вот, кто и что наделал, то и сделалось... Но, оглядываясь назад, я всё равно не могу сказать, что жалею о том, что я назвал Шапошникову. А кого?! Ну, кого, не Сидорова же? Сидоров постарался бы, приложил бы силы, но у него ничего не получилось бы. А это энергичная дама, секретарь парторганизации института стран Азии и Африки... Ну, что ж, спасибо Вам!